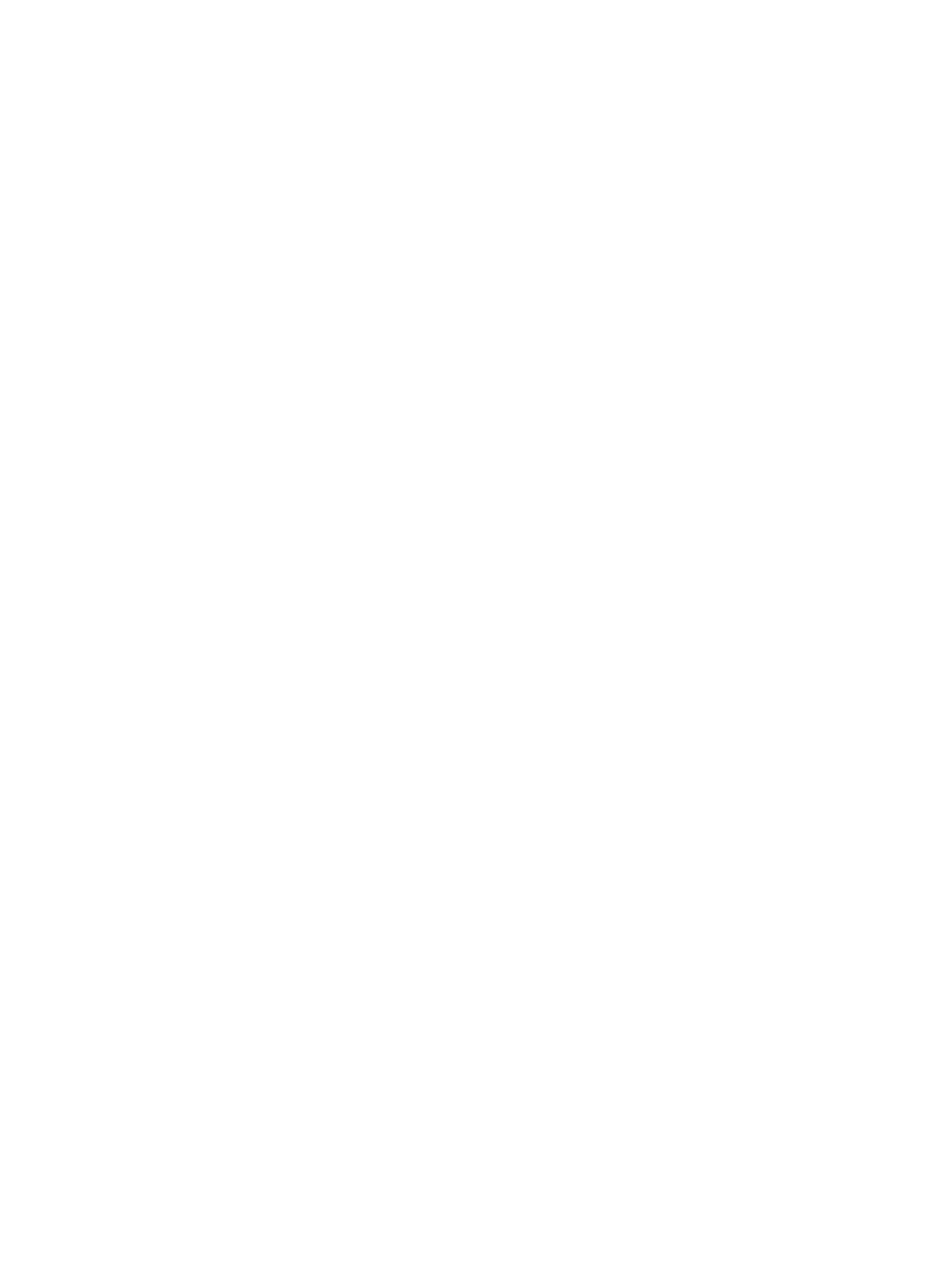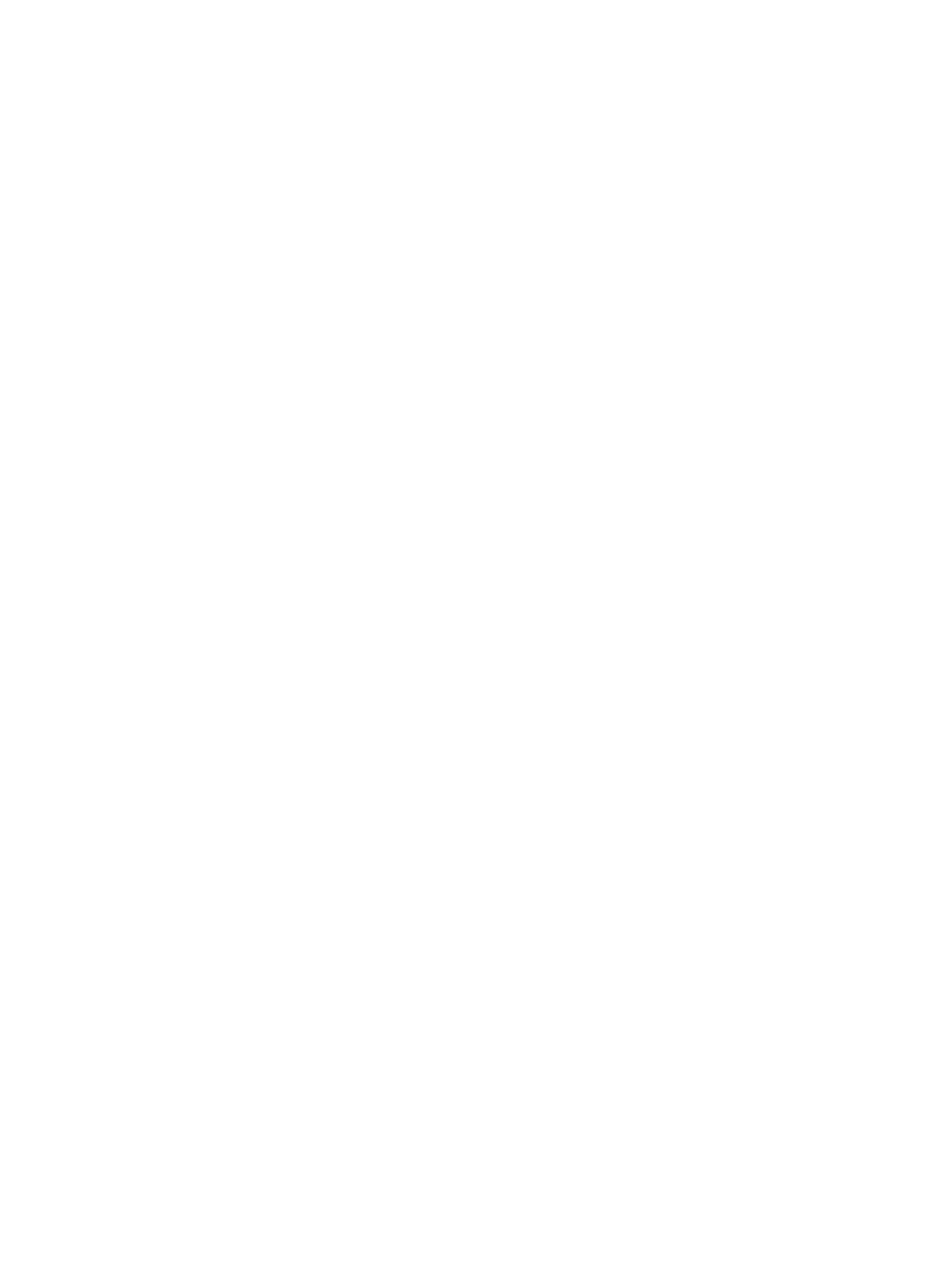Из большого тенниса в «Большой университет»
Юлия Борисовна Балашова — доктор филологических наук, профессор кафедры истории журналистики ВШЖиМК. В юности она занималась большим теннисом и признается, что если бы не преподавание, то стала бы тренером или комментатором. Юлия Борисовна окончила филологической факультет ЛГУ в 1990-е годы, когда тусовочным местом была «публичка». В интервью она рассказала, как привить любовь к чтению, чем отличаются русские студенты от иностранных, а также поделилась несколькими полезными советами для первокурсников.
— Юлия Борисовна, почему вы решили поступать на филологический факультет?
— Эпоха была такая. Вообще, я очень серьезно занималась спортом — большим теннисом, и даже была в сборной Советского Союза. Но, к сожалению, у нас в городе не было условий для дальнейшего спортивного развития. Я вовремя бросила теннис, чтобы получить возможность поучиться. Родители меня отправили в физико-математический класс, в котором я поняла, что у меня абсолютно нет способностей к математике. В моей семье все с техническим образованием. Для родителей было нонсенсом, что ребенок не хочет заниматься тем же. В соответствии с веяниями времени я думала пойти на экономический, или юридический факультет, но в последний момент выбрала филфак в «Большом университете». Я училась в 1990-ые годы — период расцвета литературы: были возвращенные произведения, новая методология и суперинтересные люди. Обучение на филфаке дало мне соответствующий уровень профессионального мышления.
— Когда было сложнее учиться: во времена вашего студенчества или сейчас?
— Тогда был сложный конкурс на поступление, но среда была не такая, как сейчас. Все бурлило. Сейчас система образования и просвещения не выдерживает конкуренции с цифровой средой — это глобальный вызов. Во времена моего студенчества не было интернета и преподаватель воспринимался как истина в последней инстанции, только от него можно вообще что-то узнать.
— А где еще студенты получали информацию? В библиотеках?
— Конечно, уже с первого курса я ходила в публичную библиотеку. И не только я, это было просто принято. «Публичка» была тусовочным местом. Я туда ходила по читательскому билету сестры, потому что без высшего образования было нельзя. Там все сидели до ночи, читали книги. Перед зимней сессией очередь на вход в главное здание публичной библиотеки на Площади Островского стояла вплоть до Невского проспекта!
— Как вы пришли к преподаванию в университете?
— Так все и задумывалось. Из-за того, что у меня академическая семья, я всегда хотела иметь ученую степень и преподавать в университете. Был период, когда работала в ПТУ, до сих пор даже дружу с некоторыми ребятами. После филфака ПТУ сильно бьет по психике, по голове и по всему остальному.
— Если бы не научная и преподавательская деятельность, чтобы вы выбрали?
— Вернулась бы в теннис. Была бы спортивным комментатором, тренером. У меня были даже мысли об этом.
“
Сейчас система образования и просвещения не выдерживает конкуренции с цифровой средой – это глобальный вызов.
— Какой своей научной работой вы гордитесь больше всего и почему?
— Своей лучшей научной работой я считаю диплом. Он был посвящен «Шестой повести Белкина» Михаила Зощенко. Это как бы продолжение «Повестей Белкина» Александра Пушкина. Там центральная тема — судьба и случай. Я проследила, как она раскрывается у Пушкина в «Повестях Белкина», а потом вывела, что у Зощенко эта тема не всегда явно проявляется, но тоже представлена. Я и сейчас публикую статьи на основе своего диплома. Подход, умение работать с текстом, с литературой — это все оттуда. Умение писать — это навык, который формируется. Специально писать мало учат или вообще не учат. А вот когда на практике ты написал, а тебе сказали, что все белиберда — вот здесь пошла работа.
— В своих исследовательских работах вы часто упоминаете Михаила Зощенко и даже выпустили коллективную монографию, посвященную его рассказам. Поделитесь, чем вас так привлекает советский писатель?
— Зощенко — это пример и образец для всех нас, потому что он по-своему понятен для массовой и элитарной аудитории. Массовая аудитория считывает внешний пласт, а человек подготовленный смотрит вглубь произведения, и эта постоянная языковая игра доставляет удовольствие. Зощенко уводит автора на второй план и дает голос герою. Во многом его рассказы — это журналистские работы.
— Какую книгу вы выберете: электронную или печатную?
— Печатную, конечно! Электронные книги вообще не люблю — они не дают мне представление об объеме текста. Могу также послушать аудиокнигу — сейчас много хороших записей.
— Кого можете порекомендовать из современных писателей и поэтов?
— Из современных авторов, например, Алексей Сальников мне кажется очень интересным. У него есть такая сологубовская традиция, связанная с бытовой чертовщиной, но при этом тексты очень «уютные». Герои там обладают способностями, которых на самом деле нет, но при этом хорошо прописана и бытовая линия: что они делают, как они живут.
— Как думаете, как человеку привить любовь к чтению?
— Мне кажется, что если в детстве это не пояснить, то потом тяжело. Недавно был юбилей у Николая Некрасова, и я задумалась, почему он остался забытым по большому счету поэтом? Я пришла к мысли: всё потому, что раньше было много детских изданий Некрасова, а сейчас эта традиция чтения Некрасова утрачена, поэтому и во взрослом возрасте уже такой любви к нему нет. Также должна быть социокультурная среда, чтобы читать, — мода. Условно говоря, если ты не читаешь, то мы с тобой дружить не будем. А сейчас такое встречается редко.
— Чтобы закрыть наш своеобразный литературный блок, не можем не спросить, есть ли литературный герой, с которым вы себя ассоциируете?
— С персонажем из рассказов Зощенко. Оптимистичным, но при этом попадающим в какие-то смешные перипетии. Скажем, в моем случае объект изучения влияет и на исследователя.
“
Должна быть социокультурная среда, чтобы читать, — мода. Условно говоря, если ты не читаешь, то мы с тобой дружить не будем. А сейчас такое встречается редко.
— Вы преподавали в университетах Испании, Италии, США. Чем студенты за границей отличаются от российских?
— Они умеют дискутировать и разговаривать. У них культура дискуссии внедряется еще со школы. Однако у западных студентов есть чёткие рамки, они всё время себя контролируют. Если попытаться переступить через эти рамки, то это воспринимается как вторжение в личное пространство. У нас в этом плане больше развито неформальное общение. Всё дело в менталитете. Зато когда начинаешь с ними разговаривать, многие идут на контакт. Сначала, конечно, очень настороженно, потому что с ними так неформально мало разговаривают.
— А какие различия в преподавании журналистики за рубежом и у нас?
— В Мичиганском университете, например, нет истории журналистики. Есть история коммуникаций в широком смысле, но она очень ограничена. Фундаментальности там почти нет. Рано начинается специализация, например, в спорт или экологию. Выпускники мало работают в классической журналистике, все уходят в какую-то специализированную.
— Что есть в жизни иностранных студентов, чего нет у нас?
— Спорт. Если играешь в университетской команде — ты звезда. У нас это тоже есть, но гораздо меньше, к сожалению. Западные студенты-спортсмены имеют возможность бесплатно учиться и получать стипендию. Какая-нибудь команда играет в бейсбол, и весь городок приходит смотреть. Это часть их образа жизни. Там считается неправильным, если ты чем-нибудь не занимаешься.
И, конечно, вся культурно-досуговая сфера. Сколько у них всяких хоров, оркестров, театров — у нас это тоже есть, но не в таком масштабе. Задача американских школ — не столько дать знания, сколько социализировать. Для России больше характерна закрытость.
И, конечно, вся культурно-досуговая сфера. Сколько у них всяких хоров, оркестров, театров — у нас это тоже есть, но не в таком масштабе. Задача американских школ — не столько дать знания, сколько социализировать. Для России больше характерна закрытость.
— Что вы больше всего цените в наших студентах?
— Когда чувствую, что мы начинаем быть на одной волне, а не каждый в своём мире. Есть пересечение, готовность к диалогу. До российского студента надо ещё достучаться. Часто сталкиваюсь с абсолютной закрытостью. И этот барьер надо как-то преодолеть. Это реальная проблема. Как её решить -очень сложный вопрос.
— Студенты часто сдают вам доклады, медиапроекты. Какие работы вам запомнились?
— Были работы в стиле «нуар» — рисованный альбом по поэме Александра Блока «Двенадцать». Причём абсолютно авторские, меня это поразило! Очень оригинальный проект. Насколько я знаю, потом эта девушка ушла заниматься иллюстрацией. Но в основном люди стараются делать несмешно — проекты в основном серьёзные, даже пафосные. Видимо, это возраст такой, когда ещё всё-таки хочется быть более серьёзным, а потом с течением времени уже идёшь на более ироничный лад.
— Какую книгу можете посоветовать для поднятия духа?
— Почитайте, как Довлатов учился в университете. Там есть колоритные анекдоты про его университетских приятелей. Он учился из рук вон плохо, а в итоге всё-таки окончил наш факультет. Если у таких людей получилось, то что уж тут говорить.
— Какие советы вы можете дать первокурсникам?
— Все испытания надо пройти! Очень важная часть вашей учёбы — это диплом. Нужно уже с первого курса формулировать тему. Все курсовые и доклады должны работать на ваш диплом.
Беседовали Алина Одинцова и Екатерина Нехаева
Редактор: Полина Янова
Фото из личного архива Ю. Б. Балашовой
Редактор: Полина Янова
Фото из личного архива Ю. Б. Балашовой